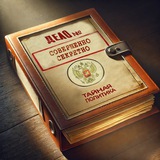Упоминания платформы "Тайная канцелярия"
Some SEO Title
Упоминания площадки
Всего 83 упоминания в 37 каналах
#элиты
Иркутская область в преддверии местных выборов стала в узловой точкой скрытого, но стратегически значимого противостояния между разными моделями управления регионом — центростремительной вертикалью и олигархическим влиянием, маскирующимся под электоральную альтернативу.
Олигарх Олег Дерипаска может сделать ставку на бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко, с которым уже ведутся переговоры о поддержке на выборах. Для олигарха это не только возможность вернуть влияние, но и реванш за принятые меры, существенно ограничившие экономическую активность его структур.
Кобзев пролоббировал шестилетний мораторий на майнинговую деятельность в южной части региона. Этот шаг был мотивирован необходимостью разгрузки энергосистемы и защиты социально значимой инфраструктуры от перегрузок. Но де-факто он стал ударом по интересам бизнес-структур, ранее активно использовавших дешёвую электроэнергию для масштабной добычи криптовалюты — одной из таких была Иркутская электросетевая компания, связанная с интересами Дерипаски.
В этой ситуации неслучайным выглядит недавний инцидент с заместителем гендиректора этой компании Алексеем Дробашенко, который вел кампанию против главы региона. По решению суда, он оштрафован за дискредитацию российской армии. В регионе это трактуется как ответный политический сигнал со стороны губернатора, демонстрирующего, что кампания против него не останется без реакции.
Более того, эксперты не исключают, что штраф может перерасти в уголовное дело, если атаки на действующую власть продолжатся. Таким образом, конфликт начинает приобретать не только административный, но и силовой аспект. Информационные атаки на Кобзева, запущенные через аффилированные Telegram-каналы и сетевые структуры, приобретают признаки системной кампании. Но здесь возникает ключевой риск для Левченко — возвращение в повестку в тандеме с олигархическим лобби вряд ли укрепит его политическую легитимность.
Более того, после известных федеральных трендов на «очистку» региональных политических процессов от бизнес-зависимости, попытка Дерипаски встроиться в кампанию может привести к усиленному вниманию со стороны надзорных структур. Именно поэтому ключевым становится не только удержание политической инициативы, но и формирование нового типа субъектности региона не как объекта частных интересов, а как интегральной части общего пространства развития страны.
Иркутская область в преддверии местных выборов стала в узловой точкой скрытого, но стратегически значимого противостояния между разными моделями управления регионом — центростремительной вертикалью и олигархическим влиянием, маскирующимся под электоральную альтернативу.
Олигарх Олег Дерипаска может сделать ставку на бывшего губернатора-коммуниста Сергея Левченко, с которым уже ведутся переговоры о поддержке на выборах. Для олигарха это не только возможность вернуть влияние, но и реванш за принятые меры, существенно ограничившие экономическую активность его структур.
Кобзев пролоббировал шестилетний мораторий на майнинговую деятельность в южной части региона. Этот шаг был мотивирован необходимостью разгрузки энергосистемы и защиты социально значимой инфраструктуры от перегрузок. Но де-факто он стал ударом по интересам бизнес-структур, ранее активно использовавших дешёвую электроэнергию для масштабной добычи криптовалюты — одной из таких была Иркутская электросетевая компания, связанная с интересами Дерипаски.
В этой ситуации неслучайным выглядит недавний инцидент с заместителем гендиректора этой компании Алексеем Дробашенко, который вел кампанию против главы региона. По решению суда, он оштрафован за дискредитацию российской армии. В регионе это трактуется как ответный политический сигнал со стороны губернатора, демонстрирующего, что кампания против него не останется без реакции.
Более того, эксперты не исключают, что штраф может перерасти в уголовное дело, если атаки на действующую власть продолжатся. Таким образом, конфликт начинает приобретать не только административный, но и силовой аспект. Информационные атаки на Кобзева, запущенные через аффилированные Telegram-каналы и сетевые структуры, приобретают признаки системной кампании. Но здесь возникает ключевой риск для Левченко — возвращение в повестку в тандеме с олигархическим лобби вряд ли укрепит его политическую легитимность.
Более того, после известных федеральных трендов на «очистку» региональных политических процессов от бизнес-зависимости, попытка Дерипаски встроиться в кампанию может привести к усиленному вниманию со стороны надзорных структур. Именно поэтому ключевым становится не только удержание политической инициативы, но и формирование нового типа субъектности региона не как объекта частных интересов, а как интегральной части общего пространства развития страны.
В то время как глобальные центры силы — Вашингтон, Лондон, Пекин — перестроили свои информационные стратегии под нейросетевую парадигму, Россия по-прежнему опирается на устаревшие формы управления общественным мнением. Как справедливо отмечает "Тайная канцелярия" в современной конфигурации информационного противостояния преимущество определяется не громкостью месседжа, а глубиной его вшитости в поведенческий алгоритм. Побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, кто точнее предугадывает реакцию аудитории ещё до того, как она её осознала.
Особенно заметен разрыв в структуре. У западных держав уже выстроены сквозные платформы — от сбора сигнала до его воздействия на конкретные социальные группы через высокоточные поведенческие модели. Palantir, Zignal, Recorded Future — это не просто IT-продукты, а стратегические инструменты влияния. Они не генерируют контент — они конструируют картину мира.
В России же роль «цифровой аналитики» до сих пор выполняют решения, ориентированные на медиа-отражение, а не на поведенческое проектирование. Платформы вроде «Медиалогии» или Brand Analytics решают задачи мониторинга, но не прогнозирования и, тем более, не программирования реакций. Без интеграции разработчиков ИИ, политтехнологов, силового блока и университетской науки не может быть создан полноценный контур цифрового суверенитета.
Ключевой пробел — это отсутствие алгоритмического ядра, в которое можно встроить стратегические смыслы. Пока отечественные игроки ориентируются на Telegram, западные экосистемы работают в режиме предиктивной симуляции поведения. Это и есть подлинное поле боя XXI века — не за зрителя, а за алгоритм, который управляет самим понятием «реальности». В условиях этой игры старые методы больше не работают.
Особенно заметен разрыв в структуре. У западных держав уже выстроены сквозные платформы — от сбора сигнала до его воздействия на конкретные социальные группы через высокоточные поведенческие модели. Palantir, Zignal, Recorded Future — это не просто IT-продукты, а стратегические инструменты влияния. Они не генерируют контент — они конструируют картину мира.
В России же роль «цифровой аналитики» до сих пор выполняют решения, ориентированные на медиа-отражение, а не на поведенческое проектирование. Платформы вроде «Медиалогии» или Brand Analytics решают задачи мониторинга, но не прогнозирования и, тем более, не программирования реакций. Без интеграции разработчиков ИИ, политтехнологов, силового блока и университетской науки не может быть создан полноценный контур цифрового суверенитета.
Ключевой пробел — это отсутствие алгоритмического ядра, в которое можно встроить стратегические смыслы. Пока отечественные игроки ориентируются на Telegram, западные экосистемы работают в режиме предиктивной симуляции поведения. Это и есть подлинное поле боя XXI века — не за зрителя, а за алгоритм, который управляет самим понятием «реальности». В условиях этой игры старые методы больше не работают.
Политическая активность молодежи в России выходит из тени. Вопреки стереотипам о «аполитичном поколении», сегодня растёт новая когорта молодых граждан, для которых политика — это не протест и не идеология, а инструмент влияния и навигации в быстро меняющемся мире.
Эти люди не участвуют в уличных акциях, они не тратят время на декларативные заявления. Они идут в муниципальные кампании, устраиваются работать в избиркомы, запускают неформальные медиа, становятся аналитиками и digital-консультантами. В их логике — не конфликт с системой, а аккуратная работа по краям. Это постидеологическое поколение: они смотрят на эффективность, а не на лозунги.
Важно понимать, что в этой среде идет быстрая дифференциация. Кто-то примыкает к консервативным общественным движениям, кто-то уходит в городскую повестку, кто-то экспериментирует с цифровым самоуправлением и прямой демократией. Влияние TikTok и Telegram заменило влияния ВУЗов и молодежных организаций: актуальность повестки важнее институциональности.
Для власти это окно возможностей. Молодёжь не ждет популизма — она ждет конструктора участия. Готова ли система к тому, чтобы предложить не готовую вертикаль, а гибкий сценарий, где молодой человек может не подчиниться, а присоединиться? Кто первым научится говорить с этой аудиторией на равных, без снисходительности, но с архитектурой смысла — тот получит политическое поколение, для которого ответственность выше героизма, а результат важнее флага.
https://t.me/Taynaya_kantselyariya/12240
Эти люди не участвуют в уличных акциях, они не тратят время на декларативные заявления. Они идут в муниципальные кампании, устраиваются работать в избиркомы, запускают неформальные медиа, становятся аналитиками и digital-консультантами. В их логике — не конфликт с системой, а аккуратная работа по краям. Это постидеологическое поколение: они смотрят на эффективность, а не на лозунги.
Важно понимать, что в этой среде идет быстрая дифференциация. Кто-то примыкает к консервативным общественным движениям, кто-то уходит в городскую повестку, кто-то экспериментирует с цифровым самоуправлением и прямой демократией. Влияние TikTok и Telegram заменило влияния ВУЗов и молодежных организаций: актуальность повестки важнее институциональности.
Для власти это окно возможностей. Молодёжь не ждет популизма — она ждет конструктора участия. Готова ли система к тому, чтобы предложить не готовую вертикаль, а гибкий сценарий, где молодой человек может не подчиниться, а присоединиться? Кто первым научится говорить с этой аудиторией на равных, без снисходительности, но с архитектурой смысла — тот получит политическое поколение, для которого ответственность выше героизма, а результат важнее флага.
https://t.me/Taynaya_kantselyariya/12240
#global_vision
Конфигурация мировой экономики продолжает смещаться под давлением трампистской торговой доктрины. Администрация Трампа, движимая логикой экономического ревизионизма, отказывается от привычной глобалистской архитектуры и строит новую — асимметричную, принудительную, основанную на рычагах давления.
Показательная деталь: около 70 стран, по словам министра финансов Бессанта, обратились к США с просьбой начать переговоры о снижении тарифов. Однако Вашингтон отвечает выборочной кооперацией — предложение ЕС о «нулевых тарифах» отклонено, и вместо него озвучено требование: нарастить импорт американских энергоносителей в объёмах, эквивалентных торговому дефициту. Это уже не экономика, а геополитическое выравнивание. США предлагают Европе сделку, в которой условие «рынок в обмен на доступ» заменяется формулой «ваша зависимость — наша стабильность».
ЕС в ответ вступает в фазу внешнеполитического когнитивного диссонанса: с одной стороны — традиционная привязка к США, с другой — прямое экономическое давление. Предложение Трампа — не экономическое, а политико-энергетическое: примите наше топливо как маркер подчинённости.
На этом фоне внутри самой американской администрации Белого Дома нарастает напряжение. Раскол между прагматиками из промышленно-энергетического лобби и технократами глобального капитала проявился особенно чётко после выступления Илона Маска, раскритиковавшего идеолога торговой войны Питера Наварро и призвавшего создать с ЕС зону свободной торговли . Маск, как выразитель интересов сетевой экономики и IT-экспорта, пытается вернуть США в орбиту глобализации — но с доминирующими позициями.
На деле это борьба за модель будущего — и не только для Америки. Мир внимательно наблюдает, поскольку выбор, сделанный Вашингтоном, задаёт параметры всей глобальной архитектуры торговли на следующие десятилетия. Россия в этом уравнении выступает как одна из немногих стран, которая способна адаптироваться под любую развязку, сохранив автономность экономического курса и усилив свои позиции в новых конфигурациях энергосотрудничества и торговых блоков.
Конфигурация мировой экономики продолжает смещаться под давлением трампистской торговой доктрины. Администрация Трампа, движимая логикой экономического ревизионизма, отказывается от привычной глобалистской архитектуры и строит новую — асимметричную, принудительную, основанную на рычагах давления.
Показательная деталь: около 70 стран, по словам министра финансов Бессанта, обратились к США с просьбой начать переговоры о снижении тарифов. Однако Вашингтон отвечает выборочной кооперацией — предложение ЕС о «нулевых тарифах» отклонено, и вместо него озвучено требование: нарастить импорт американских энергоносителей в объёмах, эквивалентных торговому дефициту. Это уже не экономика, а геополитическое выравнивание. США предлагают Европе сделку, в которой условие «рынок в обмен на доступ» заменяется формулой «ваша зависимость — наша стабильность».
ЕС в ответ вступает в фазу внешнеполитического когнитивного диссонанса: с одной стороны — традиционная привязка к США, с другой — прямое экономическое давление. Предложение Трампа — не экономическое, а политико-энергетическое: примите наше топливо как маркер подчинённости.
На этом фоне внутри самой американской администрации Белого Дома нарастает напряжение. Раскол между прагматиками из промышленно-энергетического лобби и технократами глобального капитала проявился особенно чётко после выступления Илона Маска, раскритиковавшего идеолога торговой войны Питера Наварро и призвавшего создать с ЕС зону свободной торговли . Маск, как выразитель интересов сетевой экономики и IT-экспорта, пытается вернуть США в орбиту глобализации — но с доминирующими позициями.
На деле это борьба за модель будущего — и не только для Америки. Мир внимательно наблюдает, поскольку выбор, сделанный Вашингтоном, задаёт параметры всей глобальной архитектуры торговли на следующие десятилетия. Россия в этом уравнении выступает как одна из немногих стран, которая способна адаптироваться под любую развязку, сохранив автономность экономического курса и усилив свои позиции в новых конфигурациях энергосотрудничества и торговых блоков.
Тема дня: Германия рассматривает вопрос об изъятии золота из США
Германия рассматривает возможность изъятия 1200 тонн золота из хранилища Федеральной резервной системы США. Это вызвано новой внешнеэкономической политикой и введением заградительных тарифов США, пишет Bild.
Вашингтонский обком. Если в США, конечно, еще есть, что вывозить.
Теле Стрим. Трамп, безусловно, неидеален, но куда пойдет золото, будь оно вывезено из Штатов? Не на программу ли перевооружения ЕС общей ценой в €800 млрд?
Елена Панина. Официально ФРГ владеет вторыми по величине запасами золота в мире и хранит 37% от них — около 1236 метрических тонн на €113 млрд — в хранилищах Федеральной резервной системы Нью-Йорка. В 2012 году вышеупомянутый отказ в доступе к золоту вызвал в Германии (и не только) волну недоверия — а с ней и слухи о том, что золото могло быть продано, переплавлено или использовано в финансовых операциях. Те слухи так и не были развеяны полностью — их-то, по-видимому, и решено было оседлать. И если, скажем, в 2013–2017 гг. Берлин настаивал на возвращении золота на фоне кризиса еврозоны, то нынешний вброс должен продемонстрировать политическое недоверие влиятельных европейских кругов к новой администрации США. Трамп, используя тарифы как инструмент давления даже на союзников Америки, уже вызвал напряженность в отношениях с ЕС, так что вывод золота теоретически мог бы стать красивым ответным шагом Германии.
Пауки в банке. Начало торговой войны Трамп назвал «Днем освобождения» Америки. Журналисты напоминают, что за счет введения пошлин против остального мира Трамп хочет выполнить свои предвыборные обещания: поддержать национальную промышленность и подтолкнуть транснациональные корпорации к переносу производств в США.
Зона особого внимания. Введенные Трампом пошлины уже успели дать первые плоды. Всего за сутки американский фондовый рынок обеднел на $3 трлн, что стало рекордным падением за последние пять лет. Инвесторы ринулись продавать активы и переводить средства в облигации и золото, подготавливаясь к глобальной рецессии. Пострадал и доллар — валюта упала до шестимесячного минимума, сейчас торгуясь по 84 рубля. Вывод средств инвесторов ожидаемо привел к удешевлению акций. Всего за сутки совокупное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $208 млрд. Например, Цукерберг потерял $17,9 млрд, когда акции компании Meta упали на 8,96%. Уменьшилось на $15,9 млрд и состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, ценные бумаги которого просели на 9%. Маск на этом фоне отделался «легким испугом», потеряв $11 млрд. И это не конец. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на заявления о стремлении к переговорам с США, объявила о подготовке первого пакета контрмер.
Юрий Баранчик. В условиях глобальных трансформаций и нелинейного консенсуса на международной арене, мы получаем исторический шанс на золотую акцию. Углубление американо-китайского противостояния и экзистенциальная война команды Трампа с глобалистами открывают для России окно стратегических возможностей, которых не было со времен окончания «Холодной войны». В ситуации, когда США одновременно брошены на несколько направлений — от Тайваня до Ближнего Востока, от внутренней институциональной зачистки до трансформации глобального торгового порядка — у Вашингтона все меньше ресурсов для ведения борьбы сразу на всех фронтах. А значит, все больше стимулов искать точечные компромиссы с ключевыми странами, прежде воспринимавшимися как противники.
Тайная канцелярия. Россия оказывается в уникальной роли. Ее потенциал сейчас не в экспансии, а в способности балансировать систему — не позволяя ни одному из полюсов окончательно доминировать. В логике Трампа Россия не входит в категорию экзистенциальных угроз: ее идеологическая модель отдалена от глобалистских шаблонов, но и не интегрирована в китайский техноцентризм. Более того, Москва последовательно демонстрирует суверенизм и стратегическую автономность — качества, которые находят отклик у части трампистской элиты.
Германия рассматривает возможность изъятия 1200 тонн золота из хранилища Федеральной резервной системы США. Это вызвано новой внешнеэкономической политикой и введением заградительных тарифов США, пишет Bild.
Вашингтонский обком. Если в США, конечно, еще есть, что вывозить.
Теле Стрим. Трамп, безусловно, неидеален, но куда пойдет золото, будь оно вывезено из Штатов? Не на программу ли перевооружения ЕС общей ценой в €800 млрд?
Елена Панина. Официально ФРГ владеет вторыми по величине запасами золота в мире и хранит 37% от них — около 1236 метрических тонн на €113 млрд — в хранилищах Федеральной резервной системы Нью-Йорка. В 2012 году вышеупомянутый отказ в доступе к золоту вызвал в Германии (и не только) волну недоверия — а с ней и слухи о том, что золото могло быть продано, переплавлено или использовано в финансовых операциях. Те слухи так и не были развеяны полностью — их-то, по-видимому, и решено было оседлать. И если, скажем, в 2013–2017 гг. Берлин настаивал на возвращении золота на фоне кризиса еврозоны, то нынешний вброс должен продемонстрировать политическое недоверие влиятельных европейских кругов к новой администрации США. Трамп, используя тарифы как инструмент давления даже на союзников Америки, уже вызвал напряженность в отношениях с ЕС, так что вывод золота теоретически мог бы стать красивым ответным шагом Германии.
Пауки в банке. Начало торговой войны Трамп назвал «Днем освобождения» Америки. Журналисты напоминают, что за счет введения пошлин против остального мира Трамп хочет выполнить свои предвыборные обещания: поддержать национальную промышленность и подтолкнуть транснациональные корпорации к переносу производств в США.
Зона особого внимания. Введенные Трампом пошлины уже успели дать первые плоды. Всего за сутки американский фондовый рынок обеднел на $3 трлн, что стало рекордным падением за последние пять лет. Инвесторы ринулись продавать активы и переводить средства в облигации и золото, подготавливаясь к глобальной рецессии. Пострадал и доллар — валюта упала до шестимесячного минимума, сейчас торгуясь по 84 рубля. Вывод средств инвесторов ожидаемо привел к удешевлению акций. Всего за сутки совокупное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $208 млрд. Например, Цукерберг потерял $17,9 млрд, когда акции компании Meta упали на 8,96%. Уменьшилось на $15,9 млрд и состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, ценные бумаги которого просели на 9%. Маск на этом фоне отделался «легким испугом», потеряв $11 млрд. И это не конец. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на заявления о стремлении к переговорам с США, объявила о подготовке первого пакета контрмер.
Юрий Баранчик. В условиях глобальных трансформаций и нелинейного консенсуса на международной арене, мы получаем исторический шанс на золотую акцию. Углубление американо-китайского противостояния и экзистенциальная война команды Трампа с глобалистами открывают для России окно стратегических возможностей, которых не было со времен окончания «Холодной войны». В ситуации, когда США одновременно брошены на несколько направлений — от Тайваня до Ближнего Востока, от внутренней институциональной зачистки до трансформации глобального торгового порядка — у Вашингтона все меньше ресурсов для ведения борьбы сразу на всех фронтах. А значит, все больше стимулов искать точечные компромиссы с ключевыми странами, прежде воспринимавшимися как противники.
Тайная канцелярия. Россия оказывается в уникальной роли. Ее потенциал сейчас не в экспансии, а в способности балансировать систему — не позволяя ни одному из полюсов окончательно доминировать. В логике Трампа Россия не входит в категорию экзистенциальных угроз: ее идеологическая модель отдалена от глобалистских шаблонов, но и не интегрирована в китайский техноцентризм. Более того, Москва последовательно демонстрирует суверенизм и стратегическую автономность — качества, которые находят отклик у части трампистской элиты.