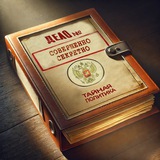Упоминания платформы "Тайная канцелярия"
Some SEO Title
Упоминания площадки
Всего 83 упоминания в 37 каналах
Наиболее вероятным сценарием в горизонте 3–5 лет является модель - институционального укрепления. Это объясняется сразу несколькими факторами, каждый из которых усиливает позицию такого сценария как основного траектории развития российской модели управления.
✔️ Россия находится в точке высокой внешней напряженности, но одновременно — в состоянии внутреннего институционального выравнивания. Несмотря на внешнее давление, система сохранила ключевые контуры стабильности, а управленческий центр — вертикаль принятия решений — не ослаблен, а напротив, усилен цифровыми и социотехническими инструментами. Система умеет работать под давлением, но не сломалась, а адаптировалась. Это ключевой признак устойчивой конструкции, в которой обновление идёт не через обнуление, а через тонкую настройку.
✔️Действующие технологи власти — особенно Кириенко как архитектор новой политической инженерии — сделали ставку на интеграцию институциональной устойчивости с адаптивной обратной связью. Пример тому — развитие инициативных платформ («Россия — страна возможностей», «Госуслуги. Решаем вместе»), а также усиление роли экспертного поля и прослойки «цифровых медиаторов» между государством и гражданами. Это не просто косметика, а новая логика работы с легитимностью: не на выходе, а на входе — через встраивание человека в конструкцию управления.
✔️ Сама логика политического цикла — включая мягкий переход к новой экономической модели и параллельную переупаковку образа власти на внешнем контуре (яркий пример тому переговорный процесс Москвы и Вашингтона) — говорит о том, что система выбрала путь переосмысления без деструкции.
В этом контексте вызовов будет много: рост когнитивной напряженности, запрос на результативность, давние институциональные ржавчины в отдельных регионах и отраслях. Но общий вектор — от мобилизации к модерации, от жёсткой риторики — к мягкой перенастройке. И ключевым ресурсом станет не столько аппарат, сколько владение архитектурой смыслов — способность объяснять, соединять и предлагать не лозунг, а путь.
К 2026 году сформируется новая политико-институциональная сборка, основанная на цифровом суверенитете, управляемой народной легитимности и встраивании ИИ в процессы принятия решений. Это будет уже не «постсоветская» Россия, а новая версия — работающая по новой матрице рациональности.
✔️ Россия находится в точке высокой внешней напряженности, но одновременно — в состоянии внутреннего институционального выравнивания. Несмотря на внешнее давление, система сохранила ключевые контуры стабильности, а управленческий центр — вертикаль принятия решений — не ослаблен, а напротив, усилен цифровыми и социотехническими инструментами. Система умеет работать под давлением, но не сломалась, а адаптировалась. Это ключевой признак устойчивой конструкции, в которой обновление идёт не через обнуление, а через тонкую настройку.
✔️Действующие технологи власти — особенно Кириенко как архитектор новой политической инженерии — сделали ставку на интеграцию институциональной устойчивости с адаптивной обратной связью. Пример тому — развитие инициативных платформ («Россия — страна возможностей», «Госуслуги. Решаем вместе»), а также усиление роли экспертного поля и прослойки «цифровых медиаторов» между государством и гражданами. Это не просто косметика, а новая логика работы с легитимностью: не на выходе, а на входе — через встраивание человека в конструкцию управления.
✔️ Сама логика политического цикла — включая мягкий переход к новой экономической модели и параллельную переупаковку образа власти на внешнем контуре (яркий пример тому переговорный процесс Москвы и Вашингтона) — говорит о том, что система выбрала путь переосмысления без деструкции.
В этом контексте вызовов будет много: рост когнитивной напряженности, запрос на результативность, давние институциональные ржавчины в отдельных регионах и отраслях. Но общий вектор — от мобилизации к модерации, от жёсткой риторики — к мягкой перенастройке. И ключевым ресурсом станет не столько аппарат, сколько владение архитектурой смыслов — способность объяснять, соединять и предлагать не лозунг, а путь.
К 2026 году сформируется новая политико-институциональная сборка, основанная на цифровом суверенитете, управляемой народной легитимности и встраивании ИИ в процессы принятия решений. Это будет уже не «постсоветская» Россия, а новая версия — работающая по новой матрице рациональности.
#форкаст #Росси_на_горизонте
Трансформация системы власти происходит в неразрывном процессе с международными процессами, за время президентства Владимира Путина мы проходили различные этапы взаимоотношения с Западом и Китаем, внутриполитический вектор определяли люди эпохи-Владислав Сурков, Вечеслав Володин, а теперь Сергей Кириенко. Россия — одна из немногих стран, где политическая система сочетает устойчивость и способность к адаптации, но каким будет вектор её развития в ближайшие несколько лет, этот вопрос актуален сегодня для всех?
Форсат-анализ, применяемый в стратегическом планировании, позволяет выделить несколько вероятных сценариев. Это не прогноз, а рабочие модели будущего, основанные на текущих трендах, институциональных сигналах и управленческих решениях.
Первый сценарий — институциональное укрепление. Курс на суверенитет и внутреннюю консолидацию получает продолжение. Система модернизируется не через смену основ, а через настройку механизмов. Растёт роль цифровых платформ обратной связи с обществом, появляется больше гибких форм участия граждан в управлении — от «народного запроса» через различные платформы до экспертных советов при институтах власти разного уровня. Повышается технологичность политического процесса — ИИ и большие данные начинают использоваться в управлении не только экономикой, но и социальной сферой.
Второй сценарий — управляемая турбулентность. Усиление давления извне, санкционные удары и попытки раскачать систему снизу могут привести к временной мобилизационной модели. При этом политическая система сохраняется, но её оперативное управление временно переходит в "режим спецоперации". Это может сопровождаться усилением роли силовых и надпартийных структур, развитием новых инструментов контроля и стабилизации. Подобная модель возможна в случае новых глобальных кризисов и вызовов, но и она не исключает последующей нормализации.
Третий сценарий — суверенный плюрализм. Его предпосылка — геополитическая разрядка и стабилизация экономики. В этом случае возможна управляемая трансформация политического поля. Появляются новые форматы общественного участия — через платформенные движения, сетевые инициативы, тематические коалиции. Обновляется и повестка: от традиционного "стабильность против хаоса" к "эффективность и справедливость".
Во всех трёх сценариях очевиден тренд: растёт запрос общества на прозрачность и дискурс, на новые формы представительства, на включённость в решение стратегических задач. Идёт смещение от ритуалов к результатам, от лозунгов к инфраструктуре управления.
У кого будет инструмент прогноза с возможными сценариями изменений и адаптации, способных сформировать смысловую надстройку для глубинного народа, тот и сформирует облик России в ближайшие годы. Не смотря на глобальные вызовы и сложный переговорный процесс с Администрацией Трампа, важно какая будет страна внутри в условиях нелинейного консенсуса на международной арене.
https://t.me/Taynaya_kantselyariya/12155
Трансформация системы власти происходит в неразрывном процессе с международными процессами, за время президентства Владимира Путина мы проходили различные этапы взаимоотношения с Западом и Китаем, внутриполитический вектор определяли люди эпохи-Владислав Сурков, Вечеслав Володин, а теперь Сергей Кириенко. Россия — одна из немногих стран, где политическая система сочетает устойчивость и способность к адаптации, но каким будет вектор её развития в ближайшие несколько лет, этот вопрос актуален сегодня для всех?
Форсат-анализ, применяемый в стратегическом планировании, позволяет выделить несколько вероятных сценариев. Это не прогноз, а рабочие модели будущего, основанные на текущих трендах, институциональных сигналах и управленческих решениях.
Первый сценарий — институциональное укрепление. Курс на суверенитет и внутреннюю консолидацию получает продолжение. Система модернизируется не через смену основ, а через настройку механизмов. Растёт роль цифровых платформ обратной связи с обществом, появляется больше гибких форм участия граждан в управлении — от «народного запроса» через различные платформы до экспертных советов при институтах власти разного уровня. Повышается технологичность политического процесса — ИИ и большие данные начинают использоваться в управлении не только экономикой, но и социальной сферой.
Второй сценарий — управляемая турбулентность. Усиление давления извне, санкционные удары и попытки раскачать систему снизу могут привести к временной мобилизационной модели. При этом политическая система сохраняется, но её оперативное управление временно переходит в "режим спецоперации". Это может сопровождаться усилением роли силовых и надпартийных структур, развитием новых инструментов контроля и стабилизации. Подобная модель возможна в случае новых глобальных кризисов и вызовов, но и она не исключает последующей нормализации.
Третий сценарий — суверенный плюрализм. Его предпосылка — геополитическая разрядка и стабилизация экономики. В этом случае возможна управляемая трансформация политического поля. Появляются новые форматы общественного участия — через платформенные движения, сетевые инициативы, тематические коалиции. Обновляется и повестка: от традиционного "стабильность против хаоса" к "эффективность и справедливость".
Во всех трёх сценариях очевиден тренд: растёт запрос общества на прозрачность и дискурс, на новые формы представительства, на включённость в решение стратегических задач. Идёт смещение от ритуалов к результатам, от лозунгов к инфраструктуре управления.
У кого будет инструмент прогноза с возможными сценариями изменений и адаптации, способных сформировать смысловую надстройку для глубинного народа, тот и сформирует облик России в ближайшие годы. Не смотря на глобальные вызовы и сложный переговорный процесс с Администрацией Трампа, важно какая будет страна внутри в условиях нелинейного консенсуса на международной арене.
https://t.me/Taynaya_kantselyariya/12155
Когда Дмитриев рассказывает американцам о Путине как о «человеке слова», он не просто транслирует личное мнение. Он встраивает Путина в канонический образ «исторического лидера», который не только восстановил территорию и экономику, но и стал воплощением суверенной стабильности. В этом портрете нет ни случайности, ни импровизации — он отшлифован годами, и создавался разными руками. Причем основный смысл траслируется на аудиторию Трампа, тех кто устал от глобалистов и ждет реконструкции консервативных ценностей.
Дмитриев — лишь один из спикеров России, его голос — отражение того, как российская власть экспортирует свой образ вовне: рациональный, сильный, предсказуемый. При этом внутри она давно управляется через когнитивные конструкции, подмену понятий и гибкое манипулирование ожиданиями.
Исторический лидер — это не только про прошлое. Это про механизм будущего, который уже встроен в структуру воспроизводства России в условиях глобальных вызовов.
https://t.me/Taynaya_kantselyariya/12225
Дмитриев — лишь один из спикеров России, его голос — отражение того, как российская власть экспортирует свой образ вовне: рациональный, сильный, предсказуемый. При этом внутри она давно управляется через когнитивные конструкции, подмену понятий и гибкое манипулирование ожиданиями.
Исторический лидер — это не только про прошлое. Это про механизм будущего, который уже встроен в структуру воспроизводства России в условиях глобальных вызовов.
https://t.me/Taynaya_kantselyariya/12225
#источники
На Старой площади запущен непростой процесс трансформации всей модели функционирования Администрации Президента. Ключевым катализатором изменений стало аппаратное усиление позиции Сергея Кириенко, продемонстрировавшего высокую эффективность в управлении кризисной ситуацией в Абхазии.
Выборы в этом союзном для России государстве проходили в условиях крайней нестабильности, и большинство прогнозов указывали на невозможность перелома ситуации в пользу пророссийского кандидата. За месяц до голосования курирование направления было передано Кириенко, при этом ставка была сделана на компромиссную фигуру — Бадру Гунбу, представлявшего окружение экс-президента Аслана Бжания и не обладавшего широкой электоральной поддержкой. Его соперник — представитель оппозиции Адгур Ардзинба — обладал значительно более высокой узнаваемостью и ресурсами.
Однако применённая модель избирательной кампании позволила не только добиться убедительной победы в первом туре с более чем 10-процентным отрывом, но и нейтрализовать угрозу уличных протестов, которыми активно оперировала оппозиция. Этот результат стал репутационным сигналом: Кириенко способен решать задачи стратегического уровня на внешнем контуре.
После выборов в Абхазии встал вопрос об эффективности кураторской системы в целом — особенно в чувствительных, приграничных регионах, где ранее доминировала отчётная модель без реальных инструментов влияния.
Стратегическая уязвимость России заключается в отсутствии архитектуры "мягкой силы". Мы по-прежнему не формируем устойчивые системы влияния — будь то СМИ, Telegram-каналы, НКО или политические лидеры — ограничиваясь цифрами и отчётами. Именно этот дисбаланс стал причиной постепенного ослабления целого ряда влиятельных игроков — от Глазьева до Суркова и Козака. Они не меняли систему, а лишь выстраивали надстройки без глубинной трансформации. Без системной перестройки инструментария влияния — результаты и в будущем останутся нестабильными и ситуативными.
На Старой площади запущен непростой процесс трансформации всей модели функционирования Администрации Президента. Ключевым катализатором изменений стало аппаратное усиление позиции Сергея Кириенко, продемонстрировавшего высокую эффективность в управлении кризисной ситуацией в Абхазии.
Выборы в этом союзном для России государстве проходили в условиях крайней нестабильности, и большинство прогнозов указывали на невозможность перелома ситуации в пользу пророссийского кандидата. За месяц до голосования курирование направления было передано Кириенко, при этом ставка была сделана на компромиссную фигуру — Бадру Гунбу, представлявшего окружение экс-президента Аслана Бжания и не обладавшего широкой электоральной поддержкой. Его соперник — представитель оппозиции Адгур Ардзинба — обладал значительно более высокой узнаваемостью и ресурсами.
Однако применённая модель избирательной кампании позволила не только добиться убедительной победы в первом туре с более чем 10-процентным отрывом, но и нейтрализовать угрозу уличных протестов, которыми активно оперировала оппозиция. Этот результат стал репутационным сигналом: Кириенко способен решать задачи стратегического уровня на внешнем контуре.
После выборов в Абхазии встал вопрос об эффективности кураторской системы в целом — особенно в чувствительных, приграничных регионах, где ранее доминировала отчётная модель без реальных инструментов влияния.
Стратегическая уязвимость России заключается в отсутствии архитектуры "мягкой силы". Мы по-прежнему не формируем устойчивые системы влияния — будь то СМИ, Telegram-каналы, НКО или политические лидеры — ограничиваясь цифрами и отчётами. Именно этот дисбаланс стал причиной постепенного ослабления целого ряда влиятельных игроков — от Глазьева до Суркова и Козака. Они не меняли систему, а лишь выстраивали надстройки без глубинной трансформации. Без системной перестройки инструментария влияния — результаты и в будущем останутся нестабильными и ситуативными.
#геополитика #форкаст
«Экономический прагматизм» Трампа превращается в катализатор мировой трансформации, где уже не только силы, но и смыслы меняются местами. Геоэкономический ландшафт 2025-35 гг. — это не просто турбулентность. Это эпоха смены правил, где на наших глазах трансформируются идентичности, союзы и точки роста. Международные процессы меняются в корне, формируя нелинейный консенсус геополитического ландшафта, при этом выделяются следующие ключевые линии:
1. Противостояние с Китаем. Тарифные удары, которые США нанесли по Китаю не про экономику — это геостратегический слом. Америка больше не верит в глобализм, который сама же и породила. Экономический национализм превращается в главную доктрину: рвать цепочки поставок, репатриировать производство, закрывать технологический трансфер. Смысл войны — контроль над будущим: США хотят «откатить» глобализацию до модели 1980-х, Китай — «переписать» её под себя, встраивая Глобальный Юг в свою орбиту. Это не война тарифов. Это столкновение моделей цивилизационного устройства: униполярного контроля против децентрализованной сети. Ключевой элемент — переформатирование архитектуры: США выводят капитал из Востока, субсидируют собственные корпорации, чтобы создать «новую индустриализацию». Это попытка не просто ослабить Пекин, а выстроить заново технологическую вертикаль мира. Китай, в свою очередь, действует как империя на подъёме: он не играет в оборону. Пекин отвечает не только симметрично (пошлины, санкции, инвестиционные барьеры), но и системно
2. Активизировалась старая, но недоразрешённая линия конфликта — между американским национал-капитализмом и евроатлантической моделью транснационального регулирования. ЕС, Канада и часть англо-саксонской элиты давно воспринимают Трампа не просто как политического оппонента, а как экзистенциальную угрозу. Его подход — разрушение «мягкой силы» и трансформаций, связанных с институциональной стабильностью, — противоречит самому коду глобалистов, базирующемуся на наднациональных структурах, климатических пактах, миграционных режимах и экономической интеграции. Макрон, фон дер Ляйен, Карни и даже условно правоконсервативные фигуры, как Мелони, вынужденно выстраиваются в неформальную антитрамповскую коалицию. Их цель — спасти остатки прежней модели. Трамп де-факто запустил процесс «распада коллективного Запада» изнутри. США больше не воспринимаются как лидер, а как источник дестабилизации.
3. БРИКС как альтернатива старому миру. Трамп подрывает ВТО — БРИКС отвечает строительством инфраструктурных союзов. США ограничивают экспорт технологий — Индия и Китай формируют собственные цепочки производства. Американские санкции на долларовые расчёты — стимул к юаневым свопам и диверсификации резервов. Расширение БРИКС, рост объёмов торговли в национальных валютах, институционализация независимых платёжных систем, инициативы по созданию рейтинговых агентств, а также политические диалоги на полях глобального Юга — всё это признаки рождения «контрмодели». БРИКС предлагает то, чего не было в западной модели — равноправие и суверенитет. Фактически, Вашингтон, разрушая прежние правила, невольно помогает Глобальному Югу обрести субъектность. В этом смысле БРИКС — не «антизапад», а «постзапад»: структура, где центр принятия решений размыт, но согласован, где правила меняются в зависимости от интересов участников, а не задаются извне. Именно эта модель становится конкурентной в условиях мирового хаоса.
«Экономический прагматизм» Трампа превращается в катализатор мировой трансформации, где уже не только силы, но и смыслы меняются местами. Геоэкономический ландшафт 2025-35 гг. — это не просто турбулентность. Это эпоха смены правил, где на наших глазах трансформируются идентичности, союзы и точки роста. Международные процессы меняются в корне, формируя нелинейный консенсус геополитического ландшафта, при этом выделяются следующие ключевые линии:
1. Противостояние с Китаем. Тарифные удары, которые США нанесли по Китаю не про экономику — это геостратегический слом. Америка больше не верит в глобализм, который сама же и породила. Экономический национализм превращается в главную доктрину: рвать цепочки поставок, репатриировать производство, закрывать технологический трансфер. Смысл войны — контроль над будущим: США хотят «откатить» глобализацию до модели 1980-х, Китай — «переписать» её под себя, встраивая Глобальный Юг в свою орбиту. Это не война тарифов. Это столкновение моделей цивилизационного устройства: униполярного контроля против децентрализованной сети. Ключевой элемент — переформатирование архитектуры: США выводят капитал из Востока, субсидируют собственные корпорации, чтобы создать «новую индустриализацию». Это попытка не просто ослабить Пекин, а выстроить заново технологическую вертикаль мира. Китай, в свою очередь, действует как империя на подъёме: он не играет в оборону. Пекин отвечает не только симметрично (пошлины, санкции, инвестиционные барьеры), но и системно
2. Активизировалась старая, но недоразрешённая линия конфликта — между американским национал-капитализмом и евроатлантической моделью транснационального регулирования. ЕС, Канада и часть англо-саксонской элиты давно воспринимают Трампа не просто как политического оппонента, а как экзистенциальную угрозу. Его подход — разрушение «мягкой силы» и трансформаций, связанных с институциональной стабильностью, — противоречит самому коду глобалистов, базирующемуся на наднациональных структурах, климатических пактах, миграционных режимах и экономической интеграции. Макрон, фон дер Ляйен, Карни и даже условно правоконсервативные фигуры, как Мелони, вынужденно выстраиваются в неформальную антитрамповскую коалицию. Их цель — спасти остатки прежней модели. Трамп де-факто запустил процесс «распада коллективного Запада» изнутри. США больше не воспринимаются как лидер, а как источник дестабилизации.
3. БРИКС как альтернатива старому миру. Трамп подрывает ВТО — БРИКС отвечает строительством инфраструктурных союзов. США ограничивают экспорт технологий — Индия и Китай формируют собственные цепочки производства. Американские санкции на долларовые расчёты — стимул к юаневым свопам и диверсификации резервов. Расширение БРИКС, рост объёмов торговли в национальных валютах, институционализация независимых платёжных систем, инициативы по созданию рейтинговых агентств, а также политические диалоги на полях глобального Юга — всё это признаки рождения «контрмодели». БРИКС предлагает то, чего не было в западной модели — равноправие и суверенитет. Фактически, Вашингтон, разрушая прежние правила, невольно помогает Глобальному Югу обрести субъектность. В этом смысле БРИКС — не «антизапад», а «постзапад»: структура, где центр принятия решений размыт, но согласован, где правила меняются в зависимости от интересов участников, а не задаются извне. Именно эта модель становится конкурентной в условиях мирового хаоса.