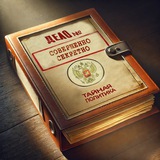Упоминания платформы "Тайная канцелярия"
Some SEO Title
Упоминания площадки
Всего 83 упоминания в 37 каналах
#геополитика #анализ
Переговоры Армении и Азербайджана в Абу-Даби — это не просто обсуждение формата Зангезурского коридора или очередная попытка «закрыть» армяно-азербайджанский конфликт. Это — точка геополитического слома, в которой фиксируется новая архитектура Южного Кавказа. Ключевой особенностью встречи становится даже не участие Пашиняна и Алиева, а отсутствие России — впервые за десятилетие.
Формальное содержание повестки — 17 пунктов, большая часть из которых давно согласована. Вопрос об отсутствии иностранных войск, отзыве взаимных претензий в международных судах и деэскалации на границе — это тактический блок. Но стратегический узел переговоров — Зангезур и Конституция Армении. Первый — инфраструктурный каркас Турецко-Азербайджанского проекта, второй — символ отказа от любых армянских территориальных амбиций в отношении Нагорного Карабаха. Алиев требует, чтобы ревизия армянского законодательства была зафиксирована до подписания мира. Не как жест, а как признание новой субъектности Баку в регионе.
Контекст определяет всё. Пашинян и Алиев параллельно выстраивают линии разрыва с Москвой. Первый делает ставку на включение в западные логистические и политические схемы, второй усиливает альянс с Турцией, Израилем. На этом фоне переговоры в Абу-Даби — не миротворческий акт, а инструмент формирования новой конфигурации силы. За спиной у обоих стоят глобалисты, заинтересованные в окончательной маргинализации России на Южном Кавказе. США, Турция и Великобритания последовательно работают над тем, чтобы исключить Москву не только из статуса арбитра, но и из любого функционального участия в регионе.
Южный Кавказ уходит переформатируется. Армения — через «Срединный коридор», Азербайджан — через стратегическое сближение с Анкарой. Это не ситуативная риторика, а программное поведение. Подписание мира между Баку и Ереваном — это не конец конфликта, а начало новой эпохи, в которой ключевые инфраструктурные и политические процессы будут происходить за пределами российских интересов и инструментов влияния.
Переговоры Армении и Азербайджана в Абу-Даби — это не просто обсуждение формата Зангезурского коридора или очередная попытка «закрыть» армяно-азербайджанский конфликт. Это — точка геополитического слома, в которой фиксируется новая архитектура Южного Кавказа. Ключевой особенностью встречи становится даже не участие Пашиняна и Алиева, а отсутствие России — впервые за десятилетие.
Формальное содержание повестки — 17 пунктов, большая часть из которых давно согласована. Вопрос об отсутствии иностранных войск, отзыве взаимных претензий в международных судах и деэскалации на границе — это тактический блок. Но стратегический узел переговоров — Зангезур и Конституция Армении. Первый — инфраструктурный каркас Турецко-Азербайджанского проекта, второй — символ отказа от любых армянских территориальных амбиций в отношении Нагорного Карабаха. Алиев требует, чтобы ревизия армянского законодательства была зафиксирована до подписания мира. Не как жест, а как признание новой субъектности Баку в регионе.
Контекст определяет всё. Пашинян и Алиев параллельно выстраивают линии разрыва с Москвой. Первый делает ставку на включение в западные логистические и политические схемы, второй усиливает альянс с Турцией, Израилем. На этом фоне переговоры в Абу-Даби — не миротворческий акт, а инструмент формирования новой конфигурации силы. За спиной у обоих стоят глобалисты, заинтересованные в окончательной маргинализации России на Южном Кавказе. США, Турция и Великобритания последовательно работают над тем, чтобы исключить Москву не только из статуса арбитра, но и из любого функционального участия в регионе.
Южный Кавказ уходит переформатируется. Армения — через «Срединный коридор», Азербайджан — через стратегическое сближение с Анкарой. Это не ситуативная риторика, а программное поведение. Подписание мира между Баку и Ереваном — это не конец конфликта, а начало новой эпохи, в которой ключевые инфраструктурные и политические процессы будут происходить за пределами российских интересов и инструментов влияния.
#анализ
Заявление главы Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина о возможном завозе в Россию одного миллиона мигрантов из Индии вызывает не просто вопросы — оно напрямую конфликтует с утверждённой государством логикой миграционной политики. По официальным данным, квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2025 год составляет менее 240 тысяч человек. Это в четыре раза меньше заявленной Бесединым цифры. Даже с учётом возможного пересмотра лимитов в 2026-м, речь не может идти о резком росте без изменения базовых параметров законодательства, институциональных процедур и инфраструктурных мощностей.
Возникает закономерный вопрос: откуда такая цифра, кто её артикулирует — и с какой целью? Беседин не представляет ни Минтруда, ни МВД, ни профильные правительственные комиссии. Его заявление, по сути, иллюстрирует растущую проблему — попытки региональных или отраслевых лоббистов навязать федерации собственные решения, апеллируя к кадровому голоду и якобы «безальтернативности» массового завоза мигрантов.
На деле же формируется конфликт между управляемой миграционной политикой — с фильтрацией, адаптацией и интеграционными механизмами — и экономическим подходом «любой рабочей силой по любой цене». Такой подход рискует разрушить ту институциональную рамку, которую Россия только начала выстраивать: от миграционного фильтра в школах до сегментной квотной системы.
Данный кейс — это форма давления на государственную стратегию. По сути, речь идёт о саботаже миграционного контроля под прикрытием «экономической необходимости». Но кадровый дефицит не может решаться экстенсивным завозом иностранной рабочей силы в обход фильтров и срезов — особенно в условиях геополитической турбулентности и внутреннего социокультурного напряжения. Подлинный интерес России — не в миллионах гастарбайтеров, а в управляемом, качественном трудовом потоке, подконтрольном государству, а не отраслевым корпорациям.
Заявление главы Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина о возможном завозе в Россию одного миллиона мигрантов из Индии вызывает не просто вопросы — оно напрямую конфликтует с утверждённой государством логикой миграционной политики. По официальным данным, квота на привлечение иностранной рабочей силы на 2025 год составляет менее 240 тысяч человек. Это в четыре раза меньше заявленной Бесединым цифры. Даже с учётом возможного пересмотра лимитов в 2026-м, речь не может идти о резком росте без изменения базовых параметров законодательства, институциональных процедур и инфраструктурных мощностей.
Возникает закономерный вопрос: откуда такая цифра, кто её артикулирует — и с какой целью? Беседин не представляет ни Минтруда, ни МВД, ни профильные правительственные комиссии. Его заявление, по сути, иллюстрирует растущую проблему — попытки региональных или отраслевых лоббистов навязать федерации собственные решения, апеллируя к кадровому голоду и якобы «безальтернативности» массового завоза мигрантов.
На деле же формируется конфликт между управляемой миграционной политикой — с фильтрацией, адаптацией и интеграционными механизмами — и экономическим подходом «любой рабочей силой по любой цене». Такой подход рискует разрушить ту институциональную рамку, которую Россия только начала выстраивать: от миграционного фильтра в школах до сегментной квотной системы.
Данный кейс — это форма давления на государственную стратегию. По сути, речь идёт о саботаже миграционного контроля под прикрытием «экономической необходимости». Но кадровый дефицит не может решаться экстенсивным завозом иностранной рабочей силы в обход фильтров и срезов — особенно в условиях геополитической турбулентности и внутреннего социокультурного напряжения. Подлинный интерес России — не в миллионах гастарбайтеров, а в управляемом, качественном трудовом потоке, подконтрольном государству, а не отраслевым корпорациям.
1 картинка
🧳Индийцы распаковывают чемоданы: поездка в Россию отменяется?
Ранее в Сети появилась информация о том, что в РФ планируют завести более 1 млн трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Он отметил, что российские предприятия «крайне заинтересованы в партнерстве, а значит, организуют все необходимое».
Однако в Минтруда опровергли новости. В ведомстве заявили, что общая квота на привлечение работников из других стран в России в этом году составляет 234,9 тысячи, для граждан Индии выделено чуть больше 71 тысячи мест. Таким образом, это примерно в 14 раз меньше цифры, которую называл Беседин.
Непонятно, конечно, откуда он вообще взял такие данные. Мечты ли это или планы самого Беседина и его окружения? В любом случае подобные вбросы позитивно на имидж госведомств не влияют, особенно в рамках очевидной миграционной нетерпимости общества.
Ранее в Сети появилась информация о том, что в РФ планируют завести более 1 млн трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Он отметил, что российские предприятия «крайне заинтересованы в партнерстве, а значит, организуют все необходимое».
Однако в Минтруда опровергли новости. В ведомстве заявили, что общая квота на привлечение работников из других стран в России в этом году составляет 234,9 тысячи, для граждан Индии выделено чуть больше 71 тысячи мест. Таким образом, это примерно в 14 раз меньше цифры, которую называл Беседин.
Непонятно, конечно, откуда он вообще взял такие данные. Мечты ли это или планы самого Беседина и его окружения? В любом случае подобные вбросы позитивно на имидж госведомств не влияют, особенно в рамках очевидной миграционной нетерпимости общества.
#конъюнктура
Механизм миграционной фильтрации через образовательную систему заработал — и уже показывает результат. По данным Рособрнадзора, лишь 4% детей мигрантов были зачислены в школы. Остальные либо не смогли собрать документы, либо элементарно не владеют русским языком. Из тех, кто дошёл до экзамена, 80% не сдали. И проблема здесь не в процедуре — речь о нежелании адаптироваться и отсутствии базовой готовности к жизни в российской среде.
Новая логика предельно ясна: если ты не готов учить язык страны, в которую приехал, тебе не может быть предоставлен доступ к её образовательной и социальной инфраструктуре. Школа становится не инструментом всеобщего охвата, а фильтром — который отделяет тех, кто готов встроиться, от тех, кто воспринимает систему как ресурс, но не как пространство правил. Это и есть целевая настройка политики: не количество, а качество.
Модель отбора уже снижает нагрузку на школы, предотвращает риски культурного расслоения и фиксирует в управляемой рамке миграционные потоки. Это не «проба пера» — а полноценная апробация инструмента, который может лечь в основу системной политики. При сохранении курса к концу 2025 года возможно развёртывание полноформатной модели миграционного селектора — с институциональной жёсткостью и прогнозируемым результатом.
Система работает не как жест доброй воли, а как инструмент наведения порядка. Это начало масштабной перенастройки всей логики интеграции: от декларативных подходов — к функциональным. Если ты не можешь — и не хочешь — адаптироваться, значит, ты не в системе. Впереди — расширение фильтрации на профобразование и рынок труда. Работа началась — и будет доведена до конца.
Механизм миграционной фильтрации через образовательную систему заработал — и уже показывает результат. По данным Рособрнадзора, лишь 4% детей мигрантов были зачислены в школы. Остальные либо не смогли собрать документы, либо элементарно не владеют русским языком. Из тех, кто дошёл до экзамена, 80% не сдали. И проблема здесь не в процедуре — речь о нежелании адаптироваться и отсутствии базовой готовности к жизни в российской среде.
Новая логика предельно ясна: если ты не готов учить язык страны, в которую приехал, тебе не может быть предоставлен доступ к её образовательной и социальной инфраструктуре. Школа становится не инструментом всеобщего охвата, а фильтром — который отделяет тех, кто готов встроиться, от тех, кто воспринимает систему как ресурс, но не как пространство правил. Это и есть целевая настройка политики: не количество, а качество.
Модель отбора уже снижает нагрузку на школы, предотвращает риски культурного расслоения и фиксирует в управляемой рамке миграционные потоки. Это не «проба пера» — а полноценная апробация инструмента, который может лечь в основу системной политики. При сохранении курса к концу 2025 года возможно развёртывание полноформатной модели миграционного селектора — с институциональной жёсткостью и прогнозируемым результатом.
Система работает не как жест доброй воли, а как инструмент наведения порядка. Это начало масштабной перенастройки всей логики интеграции: от декларативных подходов — к функциональным. Если ты не можешь — и не хочешь — адаптироваться, значит, ты не в системе. Впереди — расширение фильтрации на профобразование и рынок труда. Работа началась — и будет доведена до конца.
#анализ
Конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской Апостольской Церковью — не просто эпизод внутренней политической борьбы. Мы видим симптом более глубокого процесса демонтажа исторической идентичности страны, происходящего под прикрытием курса на «модернизацию» и «суверенность». Объявляя духовенству войну на символическом уровне, называя католикосов «антихристами» и обещая «освободить церковь», Пашинян фактически запускает культурно-идеологическую зачистку, направленную против единственного института, способного оставаться оппозиционным без участия в партийной политике.
Политический расчёт очевиден: в условиях подготовки к парламентским выборам 2026 года премьер устраняет любые институты, которые могут бросить вызов его монополии. Армянская Апостольская Церковь, как носитель идеологического влияния, попадает под удар именно потому, что она не поддается нажиму в отличие от раздробленной и маргинализированной парламентской оппозиции. Для Пашиняна, чей рейтинг неуклонно снижается после потери Карабаха и ослабления связей с Москвой, консервативные институты становятся стратегической угрозой. Поэтому курс на их дискредитацию и постепенное вытеснение является логичным.
Церковь последовательно выступает против уступок Турцией и Азербайджаном, а также отрыва Армении от евразийского вектора. Именно она удерживает армянское общество в поле культурной и духовной взаимосвязи с Россией. Нападения на духовенство, зачистка оппозиции, аресты, кампания по изменению конституции — всё это складывается в стратегический шаблон, который уже был реализован в других постсоветских республиках, где политическая элита стремилась изменить вектор на прозападный.
Как и на Украине после 2014 года, всё кампания начинается с маргинализации традиционного духовенства, за которой неизбежно следует подмена религиозного ядра на структуру, лояльную к власти и новому внешнему курсу. Под лозунгами светского государства и «истинной веры» реализуется холодный политический расчёт: убрать из армянского социума все опоры, которые мешают переформатированию страны в удобный антироссийский форпост глобалистов на Южном Кавказе. И чем дальше зайдет «реформа идентичности», тем ближе страна окажется к точке невозврата.
Конфликт между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Армянской Апостольской Церковью — не просто эпизод внутренней политической борьбы. Мы видим симптом более глубокого процесса демонтажа исторической идентичности страны, происходящего под прикрытием курса на «модернизацию» и «суверенность». Объявляя духовенству войну на символическом уровне, называя католикосов «антихристами» и обещая «освободить церковь», Пашинян фактически запускает культурно-идеологическую зачистку, направленную против единственного института, способного оставаться оппозиционным без участия в партийной политике.
Политический расчёт очевиден: в условиях подготовки к парламентским выборам 2026 года премьер устраняет любые институты, которые могут бросить вызов его монополии. Армянская Апостольская Церковь, как носитель идеологического влияния, попадает под удар именно потому, что она не поддается нажиму в отличие от раздробленной и маргинализированной парламентской оппозиции. Для Пашиняна, чей рейтинг неуклонно снижается после потери Карабаха и ослабления связей с Москвой, консервативные институты становятся стратегической угрозой. Поэтому курс на их дискредитацию и постепенное вытеснение является логичным.
Церковь последовательно выступает против уступок Турцией и Азербайджаном, а также отрыва Армении от евразийского вектора. Именно она удерживает армянское общество в поле культурной и духовной взаимосвязи с Россией. Нападения на духовенство, зачистка оппозиции, аресты, кампания по изменению конституции — всё это складывается в стратегический шаблон, который уже был реализован в других постсоветских республиках, где политическая элита стремилась изменить вектор на прозападный.
Как и на Украине после 2014 года, всё кампания начинается с маргинализации традиционного духовенства, за которой неизбежно следует подмена религиозного ядра на структуру, лояльную к власти и новому внешнему курсу. Под лозунгами светского государства и «истинной веры» реализуется холодный политический расчёт: убрать из армянского социума все опоры, которые мешают переформатированию страны в удобный антироссийский форпост глобалистов на Южном Кавказе. И чем дальше зайдет «реформа идентичности», тем ближе страна окажется к точке невозврата.